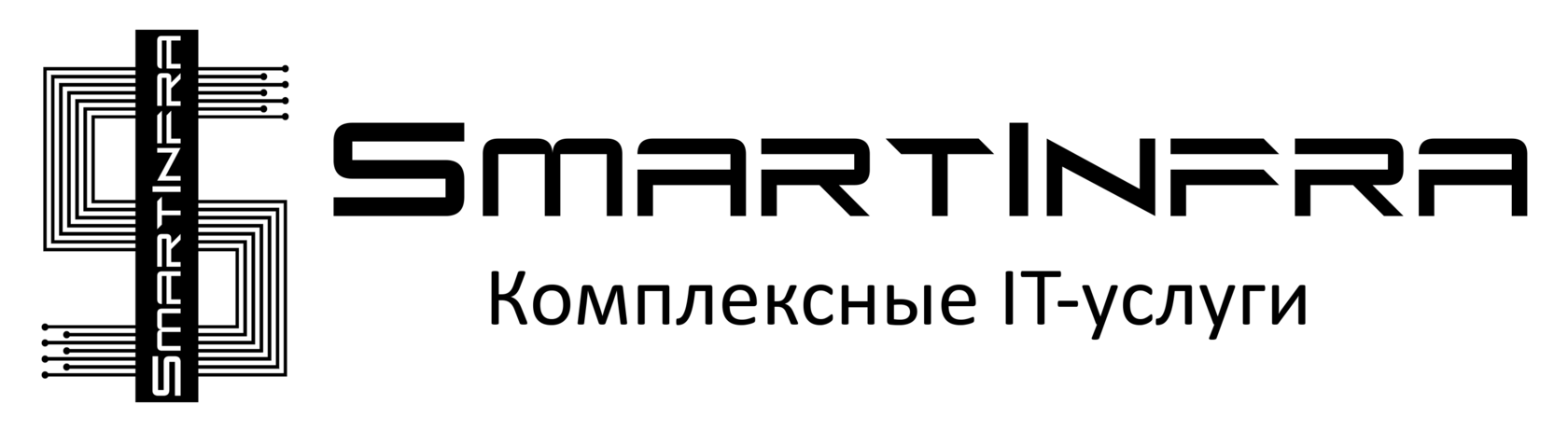70% российских предприятий не окупили инвестиции в ИИ. Причины в отсутствии стратегии и фрагментарных пилотах
По данным Triada Partners, 70% российских компаний в промышленности, энергетике и строительстве не окупили затраты на ИИ — средний срок окупаемости составляет 2–3 года, но большинство проектов остаются изолированными пилотами без масштабирования. Основные причины — отсутствие единой стратегии, высокая стоимость интеграции и неправильная приоритизация задач.
Консалтинговая компания Triada Partners проанализировала внедрение технологий искусственного интеллекта у более чем 10 крупных и средних российских компаний из секторов горной добычи, металлургии, нефтегазовой отрасли и строительства. По результатам исследования, около 70% организаций на текущий момент не достигли точки окупаемости инвестиций в ИИ — включая генеративные модели, системы предиктивной аналитики и автоматизированные рабочие процессы. При этом 70% этих же компаний уже используют ИИ в той или иной форме, что подтверждает широкий интерес к технологии, но не её эффективность.
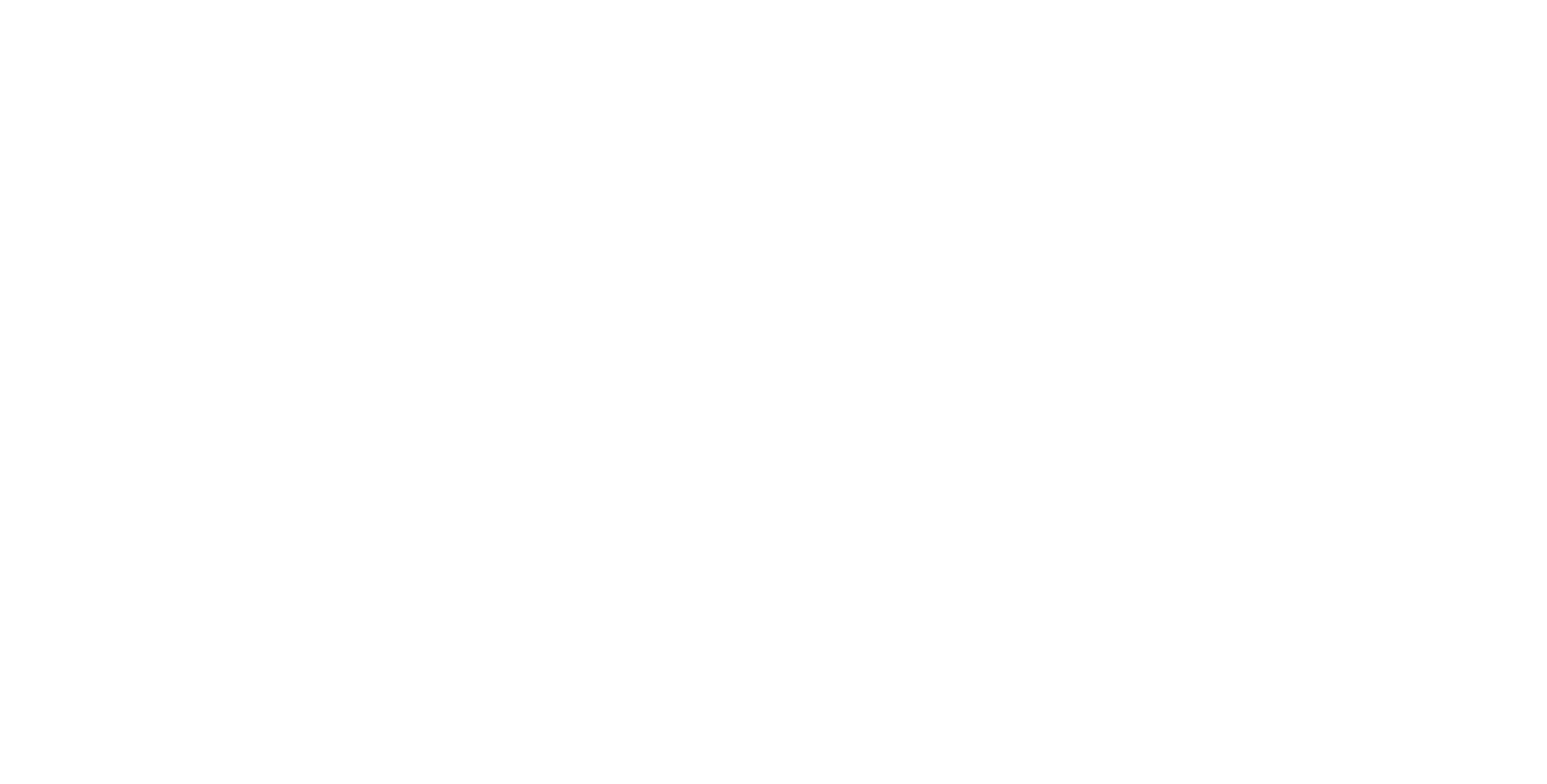
Средний срок окупаемости инвестиций в ИИ в российском бизнесе составляет 2–3 года, однако большинство проектов не достигают этого рубежа. В промышленности ИИ внедряется для оптимизации производственных цепочек, прогнозирования отказов оборудования и управления логистикой; в энергетике — для предсказания аварий на трубопроводах и распределении нагрузки; в госсекторе и обороне — для анализа больших данных и обработки разведывательной информации. Стоимость готовых решений от вендоров — от десятков до сотен миллионов рублей в год — включает не только лицензирование, но и обязательную передачу данных, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности и реальной ценности для бизнеса.
Основные причины неокупаемости связаны не с техническими ограничениями, а с организационными и стратегическими ошибками. Во-первых, отсутствует единая корпоративная стратегия по ИИ: проекты запускаются как изолированные пилоты в отдельных подразделениях — например, в производстве или логистике — без интеграции с другими функциями: маркетингом, HR, закупками, финансами и юридическими процессами. Такой подход не создаёт системного эффекта, а лишь добавляет слои избыточной сложности.
Во-вторых, компании не ставят чётких бизнес-целей и KPI. Многие проекты запускаются с формулировкой «внедрить ИИ для повышения эффективности», но без конкретных метрик: на сколько сократить простои, на сколько повысить точность прогноза, на сколько снизить затраты на обслуживание. Без измеримых целей невозможно оценить результат, а значит — и окупаемость.
В-третьих, организационная структура не адаптирована под ИИ. Ответственность за проекты распределена между ИТ-отделами и бизнес-юнитами без чётких ролей, что приводит к конфликтам при внедрении и отказу от использования решений из-за сопротивления изменений. Работа с данными часто не систематизирована: датасеты неполные, неструктурированные или не обновляются, что снижает качество моделей.
Наиболее эффективный подход, выявленный Triada Partners, — гибридная модель: создание центра ИИ-экспертизы, отвечающего за разработку методологий, стандартов, обучения и аудита, и параллельное формирование проектных команд в каждой бизнес-единице, которые внедряют решения в конкретные процессы. Такой подход обеспечивает как централизованное управление качеством, так и локальную адаптацию под нужды подразделений.
Важным фактором становится коммерциализация собственных разработок. Компании, которым удалось превратить внутренний ИИ-проект в самостоятельный продукт или сервис — например, платформу для прогнозирования отказов оборудования, продаваемую другим предприятиям — достигли окупаемости быстрее и создали новый источник дохода. Такой путь требует не только технической зрелости, но и понимания рынка и моделей монетизации.
В условиях высоких затрат на инфраструктуру и лицензии, более половины компаний-клиентов Triada Partners перешли на модели с открытым исходным кодом. Использование open-source моделей (например, Llama, Mistral, Qwen) позволяет снизить затраты на ПО до нуля, сосредоточив инвестиции на инфраструктуре — вычислительных мощностях, хранении данных, интеграции и подготовке команд. Стоимость такой реализации — от 50 до 100 млн рублей — в 3–5 раз ниже, чем у коммерческих решений, и не требует передачи данных третьим лицам.
Распределение бюджета на ИИ-проекты в среднем выглядит так:
— 25% — разработка и обучение модели;
— 25% — формирование команды, обучение персонала и изменение компетенций;
— 15% — интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру, лицензии, облачные ресурсы;
— 15% — сбор, очистка и подготовка датасетов;
— 10% — тестирование, эксплуатация, энергопотребление;
— 5% — управление изменениями (процессы, роли, коммуникации);
— 5% — риск-менеджмент и безопасность.
Скорость внедрения ИИ не гарантирует его эффективность. Успешные компании не стремятся «внедрить ИИ во всё сразу» — они фокусируются на нескольких ключевых задачах с высоким бизнес-эффектом, измеряют результат и масштабируют только то, что работает. Остальные продолжают тратить миллионы на пилоты, которые не перерастают в системные изменения.
Основные причины неокупаемости связаны не с техническими ограничениями, а с организационными и стратегическими ошибками. Во-первых, отсутствует единая корпоративная стратегия по ИИ: проекты запускаются как изолированные пилоты в отдельных подразделениях — например, в производстве или логистике — без интеграции с другими функциями: маркетингом, HR, закупками, финансами и юридическими процессами. Такой подход не создаёт системного эффекта, а лишь добавляет слои избыточной сложности.
Во-вторых, компании не ставят чётких бизнес-целей и KPI. Многие проекты запускаются с формулировкой «внедрить ИИ для повышения эффективности», но без конкретных метрик: на сколько сократить простои, на сколько повысить точность прогноза, на сколько снизить затраты на обслуживание. Без измеримых целей невозможно оценить результат, а значит — и окупаемость.
В-третьих, организационная структура не адаптирована под ИИ. Ответственность за проекты распределена между ИТ-отделами и бизнес-юнитами без чётких ролей, что приводит к конфликтам при внедрении и отказу от использования решений из-за сопротивления изменений. Работа с данными часто не систематизирована: датасеты неполные, неструктурированные или не обновляются, что снижает качество моделей.
Наиболее эффективный подход, выявленный Triada Partners, — гибридная модель: создание центра ИИ-экспертизы, отвечающего за разработку методологий, стандартов, обучения и аудита, и параллельное формирование проектных команд в каждой бизнес-единице, которые внедряют решения в конкретные процессы. Такой подход обеспечивает как централизованное управление качеством, так и локальную адаптацию под нужды подразделений.
Важным фактором становится коммерциализация собственных разработок. Компании, которым удалось превратить внутренний ИИ-проект в самостоятельный продукт или сервис — например, платформу для прогнозирования отказов оборудования, продаваемую другим предприятиям — достигли окупаемости быстрее и создали новый источник дохода. Такой путь требует не только технической зрелости, но и понимания рынка и моделей монетизации.
В условиях высоких затрат на инфраструктуру и лицензии, более половины компаний-клиентов Triada Partners перешли на модели с открытым исходным кодом. Использование open-source моделей (например, Llama, Mistral, Qwen) позволяет снизить затраты на ПО до нуля, сосредоточив инвестиции на инфраструктуре — вычислительных мощностях, хранении данных, интеграции и подготовке команд. Стоимость такой реализации — от 50 до 100 млн рублей — в 3–5 раз ниже, чем у коммерческих решений, и не требует передачи данных третьим лицам.
Распределение бюджета на ИИ-проекты в среднем выглядит так:
— 25% — разработка и обучение модели;
— 25% — формирование команды, обучение персонала и изменение компетенций;
— 15% — интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру, лицензии, облачные ресурсы;
— 15% — сбор, очистка и подготовка датасетов;
— 10% — тестирование, эксплуатация, энергопотребление;
— 5% — управление изменениями (процессы, роли, коммуникации);
— 5% — риск-менеджмент и безопасность.
Скорость внедрения ИИ не гарантирует его эффективность. Успешные компании не стремятся «внедрить ИИ во всё сразу» — они фокусируются на нескольких ключевых задачах с высоким бизнес-эффектом, измеряют результат и масштабируют только то, что работает. Остальные продолжают тратить миллионы на пилоты, которые не перерастают в системные изменения.
© 26.09.2025
Закажите обратный звонок
Оставьте свой телефон, мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контакты:
info@smartinfra.ru
105118, г. Москва,
ул. Буракова, 27 к3,
3 этаж, офис 322
105118, г. Москва,
ул. Буракова, 27 к3,
3 этаж, офис 322