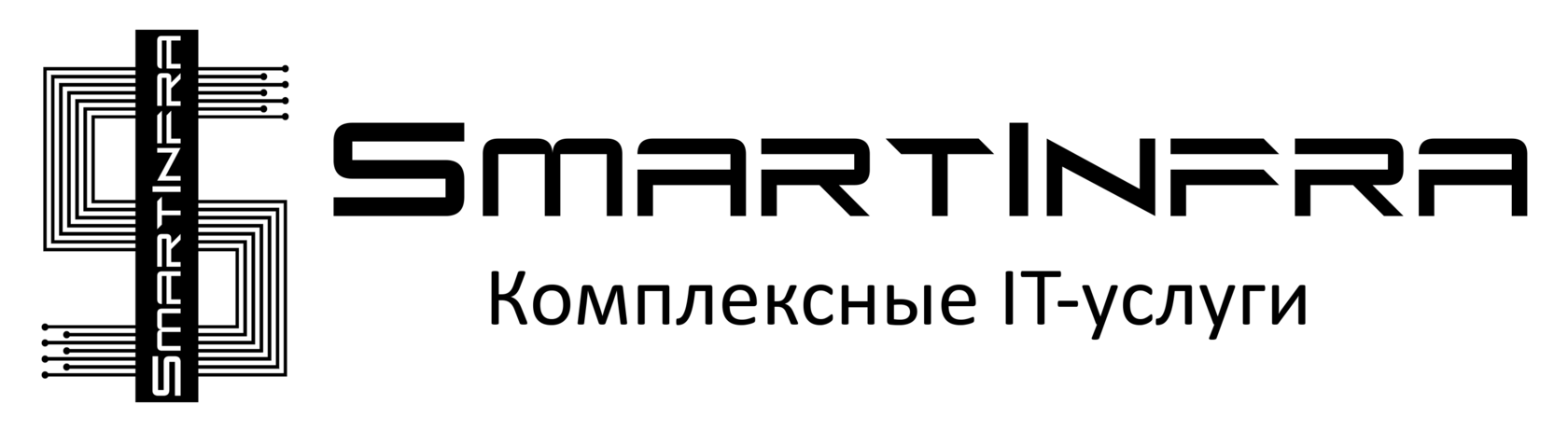Правительство выделило 8,3 млрд руб. на гранты ИТ-проектам с новыми критериями тиражируемости и коммерческой зрелости
Российское правительство выделило 8,3 млрд руб. на гранты импортозамещающим ИТ-проектам через РФРИТ. Новые правила отбора требуют доказательства спроса от минимум трёх отраслевых заказчиков, прогнозируемой выручки в 110% от гранта за три года и обязательного включения ИИ-технологий — это сужает круг претендентов в пользу зрелых компаний.
Российское правительство через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделило 8,3 млрд рублей на грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений, заменяющих иностранное программное обеспечение. Программа, запущенная в 2022 году, ранее поддержала 49 проектов. В 2025 году правила отбора были пересмотрены в рамках поручения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко.
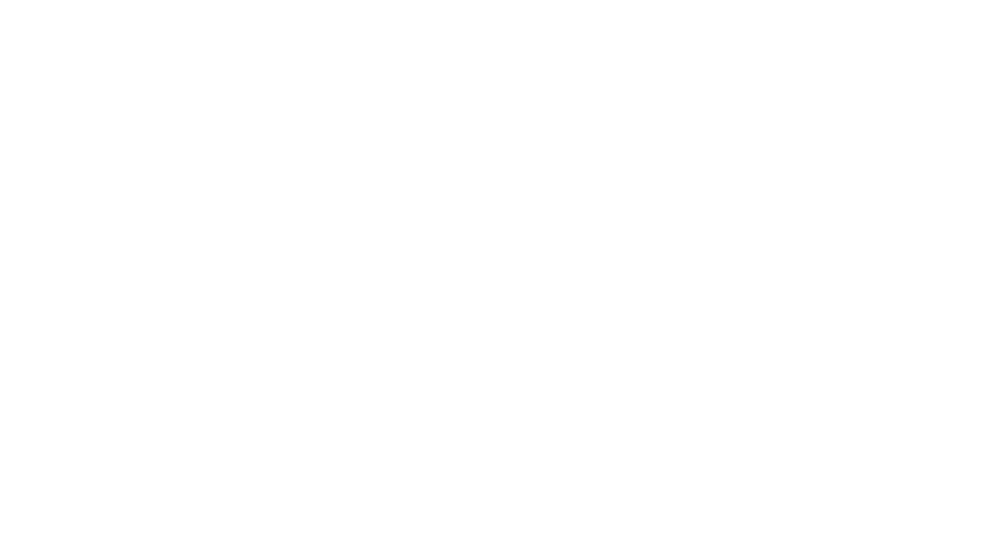
Новые критерии отбора основаны на оценке коммерческого потенциала и масштабируемости решений, а не только на технической реализуемости. Заявки оцениваются по десяти параметрам, каждый из которых имеет весовой коэффициент. Ключевыми стали три требования:
Спрос от трёх и более заказчиков — проект должен подтверждать наличие договорённостей или намерений о закупке от минимум трёх компаний, действующих в одной или нескольких отраслях (например, энергетика, машиностроение, госуправление). Это исключает проекты, ориентированные исключительно на внутреннее использование или экспериментальное внедрение.
Экономическая окупаемость — прогнозируемая выручка от тиражирования решения должна составить не менее 110% от суммы гранта в течение трёх лет после завершения разработки. Дополнительно требуется, чтобы возврат государственных средств в виде налогов и страховых взносов достиг 100% от гранта в период с начала реализации проекта до конца третьего года после его завершения. Это означает, что продукт должен не только быть технически успешным, но и генерировать налоговые поступления, превышающие затраты государства.
Интеграция ИИ-технологий — решение должно включать элементы искусственного интеллекта, применяемые в ключевых функциях: автоматизация анализа, предиктивные модели, генерация контента, оптимизация процессов. Это требование направлено на соответствие текущим технологическим трендам и повышение конкурентоспособности российских решений на рынке.
Дополнительно приоритет отдается проектам, соответствующим стратегическим направлениям:
Изменения снижают вероятность получения гранта для стартапов и компаний среднего звена, чьи продукты находятся на ранних стадиях коммерциализации. Требование к выручке и наличию трёх подтверждённых заказчиков исключает проекты, основанные на пилотных разработках, научных экспериментах или прототипах без рынка. В то же время оно выгодно крупным ИТ-компаниям, имеющим устоявшиеся каналы продаж, контракты с госструктурами и возможность масштабировать решения за счёт существующих клиентских баз.
Новые правила смещают фокус государственной поддержки с «технологического интереса» на «экономический эффект». Грант больше не рассматривается как субсидия на разработку, а как инвестиция в продукт, который уже демонстрирует рыночную востребованность. Это повышает прозрачность отбора, но ограничивает инновационный потенциал — особенно в сегментах, где внедрение ИИ-решений требует длительного тестирования, адаптации и обучения пользователей, а не немедленного масштабирования.
В результате, ожидается сокращение числа заявок от небольших команд и академических лабораторий, чьи разработки не имеют коммерческих партнёров. В то же время возрастает конкуренция среди зрелых разработчиков, способных продемонстрировать готовность к массовому внедрению и подтвердить прогнозы выручки документально. Решения, не отвечающие новым критериям, даже при высокой технической ценности, не получат поддержки.
Цель — не просто заменить зарубежный софт, а создать устойчивые, прибыльные и масштабируемые российские продукты, которые становятся частью экономики, а не зависимыми от бюджетных субсидий.
Спрос от трёх и более заказчиков — проект должен подтверждать наличие договорённостей или намерений о закупке от минимум трёх компаний, действующих в одной или нескольких отраслях (например, энергетика, машиностроение, госуправление). Это исключает проекты, ориентированные исключительно на внутреннее использование или экспериментальное внедрение.
Экономическая окупаемость — прогнозируемая выручка от тиражирования решения должна составить не менее 110% от суммы гранта в течение трёх лет после завершения разработки. Дополнительно требуется, чтобы возврат государственных средств в виде налогов и страховых взносов достиг 100% от гранта в период с начала реализации проекта до конца третьего года после его завершения. Это означает, что продукт должен не только быть технически успешным, но и генерировать налоговые поступления, превышающие затраты государства.
Интеграция ИИ-технологий — решение должно включать элементы искусственного интеллекта, применяемые в ключевых функциях: автоматизация анализа, предиктивные модели, генерация контента, оптимизация процессов. Это требование направлено на соответствие текущим технологическим трендам и повышение конкурентоспособности российских решений на рынке.
Дополнительно приоритет отдается проектам, соответствующим стратегическим направлениям:
- разработка решений для управления жизненным циклом продукции (PLM)
- платформенные ИТ-системы с открытой архитектурой
- продукты для оборонно-промышленного комплекса
- решения, предназначенные для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)
Изменения снижают вероятность получения гранта для стартапов и компаний среднего звена, чьи продукты находятся на ранних стадиях коммерциализации. Требование к выручке и наличию трёх подтверждённых заказчиков исключает проекты, основанные на пилотных разработках, научных экспериментах или прототипах без рынка. В то же время оно выгодно крупным ИТ-компаниям, имеющим устоявшиеся каналы продаж, контракты с госструктурами и возможность масштабировать решения за счёт существующих клиентских баз.
Новые правила смещают фокус государственной поддержки с «технологического интереса» на «экономический эффект». Грант больше не рассматривается как субсидия на разработку, а как инвестиция в продукт, который уже демонстрирует рыночную востребованность. Это повышает прозрачность отбора, но ограничивает инновационный потенциал — особенно в сегментах, где внедрение ИИ-решений требует длительного тестирования, адаптации и обучения пользователей, а не немедленного масштабирования.
В результате, ожидается сокращение числа заявок от небольших команд и академических лабораторий, чьи разработки не имеют коммерческих партнёров. В то же время возрастает конкуренция среди зрелых разработчиков, способных продемонстрировать готовность к массовому внедрению и подтвердить прогнозы выручки документально. Решения, не отвечающие новым критериям, даже при высокой технической ценности, не получат поддержки.
Цель — не просто заменить зарубежный софт, а создать устойчивые, прибыльные и масштабируемые российские продукты, которые становятся частью экономики, а не зависимыми от бюджетных субсидий.
© 29.09.2025
Закажите обратный звонок
Оставьте свой телефон, мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контакты:
info@smartinfra.ru
105118, г. Москва,
ул. Буракова, 27 к3,
3 этаж, офис 322
105118, г. Москва,
ул. Буракова, 27 к3,
3 этаж, офис 322